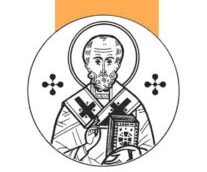Статья Трубецкой Елены Владимировны «Из воспоминаний»
В конце 70-х годов прошлого столетия мы с моим мужем Андреем Владимировичем стали подумывать о том, чтобы летом выезжать с детьми куда-то в район Дмитрова или Сергиева Посада: в этих места мы жили в юности. Мечтали о собственном домике. С такими радужными мыслями и кульком дмитровских пряников отправились однажды на автобусе из Дмитрова в сторону Хотькова. Этой дорогой мы никогда раньше не ездили. Поля, леса, взгорки, спуски. Смотрим в окошки, и вдруг справа — большое озеро, а над озером — храм. Решили вылезти на остановке и подойти к храму. Возле остановки у встречной тетушки Андрей вдруг спросил, не продают ли здесь избушку?
— Продают. Вот идите мимо церкви, вниз по улице. Улица переходит в поле, направо предпоследний дом — Беляковых.
Чудеса! Мне теперь кажется, что эта тетушка и была будущей старостой Никольского храма, жившей как раз напротив. Дом, который нам указали, на взгорке, на травянистой улице, черный, бревенчатый с четырьмя окнами. Нам он очень понравился, но хозяев не было — уехали в Хотьково. У них там квартира в новом доме. Сосед научил нас, когда лучше их застать. Нового их адреса он не знал.
Мы поняли, что оказались в сказочном месте. Приезжали еще дважды, наконец, застали. Тихие старики, которые тяготились большим хозяйством, участком, возней с редиской, которую выращивали для продажи. Оба их сына жили в своих квартирах, иногда навещали родителей.
В покупке избы и оформлении помогали нам Анатолий Алексеевич Озерецковский с сыном. Озерецковские, имевшие дом с участком в Ахтырке, помнят, что владелец Ахтырки Николай Петрович Трубецкой подарил дом с участком их прадеду, священнику Ахтырской церкви. Так как оформить подарок надо было в виде продажи, то появилась купчая за полтора рубля. Этот документ Анатолий Алексеевич Озерецковский незадолго до своей кончины в старческом доме на Планерной передал Андрею Трубецкому. Так вот в благодарность за это щедрое действо прадеда Андрея Озерецковские помогли правнуку в покупке избы в Озерецком и ее оформлении в 1978 году.
Итак, мы стали полноправными дачниками села.
Храм Николая Чудотворца в Озерецком был освящен в 1811 году. За двести лет своего существования и молитвенного служения храм сохранил свой первоначальный вид без пристроек, надстроек и непоправимых переделок. Его миновала судьба многих храмов тридцатых и сороковых годов XX века. Этот величественный храм до сих пор красуется на взгорье над большим озером, откуда и название села.
Село Озерецкое возникло на пересечении дорог Дмитров — Хотьково и Москва — Кимры. Место это освящалось прежде деревянным храмом. Каменный Никольский храм строил, по-видимому, хороший архитектор, знавший высокий (зрелый) классицизм и сумевший применить его в фасадах своего храма нового купольного ротондного типа, появившегося позже под названием «ранний ампир». Таким образом, Никольский храм — один из редких примеров подмосковных святынь рубежа XVIII-XIX веков — сохранил изначальную стать. Он отличается обилием белокаменных резных деталей: фронтончатых портиков, венчающих карнизов, подоконных плит, замковых камней, арочных обрамлений квадратных оконных проемов, квадров цоколя и, конечно, белокаменных фигурных ступеней северного и южного всходов в ротондный (летний) храм.
В первое время мы не решались войти в церковь, хотя все было открыто. Изредка мимо него ходили в магазин, поглядывая на необыкновенно красивые резные белокаменные блоки венчающих карнизов.
Из Москвы мы приезжали на поезде Москва — Александров по новой железной дороге. Подъезжая на поезде к Прокшину, мы спрыгивали на платформу «62 км», переходили по мосту через Ворю и шли вдоль озера, через болото, по кочкам около двух километров. Любимый наш живописный путь.
Вспоминается вечерний туман, на глазах вырастающий, как в сказке, объемлющий все пространство пути, окутывающий нас, идущих от платформы домой. Знакомая местность с Озерецким селом вдали закрывалась очень быстро туманом. Андрей с рюкзаком впереди, прыгающий передо мной с кочки на кочку, высокий, уже плохо виден, дали исчезли, ориентиров никаких… Только чутье направления бывалого партизана привело нас к нашей калитке в конце села.
Вспоминается 1 мая 1979 года. Разлив реки Вори… Едем в Москву с дочерью Елизаветой… Мост через Ворю как будто всплыл, вокруг — вода… Платформа «62 км» рядом, но кажется недоступной. Стараемся не залить высокие резиновые сапоги.
Оказавшись полноправными, постоянными дачниками, мы вскоре полюбили и избу, и соседей, и дали за озером, и храм, и поля… Андрей Владимирович — заведующий лабораторией в Кардиологическом центре, предельно занятый, мог приезжать в Озерецкое в субботу и воскресение. Да и я тоже, потому что продолжалась работа по многотомной монографии «Памятники архитектуры Москвы».
Субботне-воскресные приезды на воздух, простор и свободу заполнялись радостным хозяйствованием в избе и на участке. Участок с малиной в бурьяне, калиной у ограды северных соседей и кустом красной смородины около южных соседей веселил неискушенных дачников. Но мы успевали гулять. Мы еще застали хлеба в поле с васильками, поля ромашек около железной дороги, застали даже жаворонков. Коров из скотного двора гоняли в разные места. Иногда они шли мимо нашего участка вдоль болота, подгоняемые пастухом, а внучка Айка спрашивала у дедушки, на каком языке он с ними разговаривает.
Однажды в начале 1980-х годов мы с мужем, услышав от кого-то о сельце Грива, решили пойти посмотреть это место. Перешли Борю по деревянному мосту, где когда-то был пучь на Москву, миновали железную дорогу Дмитров — Александров и поднялись на холм, к Прокшину. Шли вдоль реки по высокому берегу. По зарослям сирени, которая росла широким полукругом, и остаткам кладбища определили место, где стояла церковь Спаса Нерукотворного образа. Ее не было, не было и села. В зарослях мы нашли груду известковой щебенки и половинку большемерного кирпича (14×8 см) со следами известки. Из таких кирпичей строили в XVII веке и в начале XVIII-ro. Позже размер кирпича постепенно уменьшался. Значит, каменный храм в Гриве был построен раньше Никольского каменного храма в Озерецком. Археологи могли бы прояснить многое.
Эти две вертикали на высоких холмах — между ними больше двух километров — как бы перекликались в пространстве и духовно, и, конечно, колокольным звоном.
Приезжали к нам в Озерецкое родные, знакомые и гости. Однажды, к моей радости, не отказалась приехать архитектор-реставратор Лидия Алексеевна Шитова с детьми Анной и Дмитрием, выросшими у нас на глазах. Редкие качества, сконцентрированные в одном специалисте: знание, любовь, доброта, мудрость, тихая энергия — возникали тогда и там, где это было необходимо. Мы работали вместе. Когда стали уходить на пенсию, Лидия Алексеевна взвалила на свои хрупкие плечи наши неоконченные, возрождавшиеся здания XVII века. После ухода в иной мир начальника завершала и незаконченную им реставрацию храмов.
В дни их приезда наш младший сын Владимир надул резиновую лодку и с детьми Лиды пошел на озеро. Мы, мирно беседуя, сидели с биноклем за столом, в саду, с потрясающим видом на озеро. Мне кажется, что за это время я ощутила еще одно качество Лиды: на самой середине огромного, глубоководного озера дети купались, ныряли, прыгая в воду с лодки, им было около десяти-двенадцати лет. Мама Лида совершенно спокойна.
Позже, когда, казалось, могли бы начаться серьезные реставрационные работы в Никольском храме, Лидия Алексеевна — профессор высокой квалификации — искренно, с любовью, безвозмездно помогла нам советами.
Но реставрационные работы не могли начаться еще очень долго. Бесхозность храма, безразличие прихожан и местного начальства в лице Васильевского сельсовета, отношение инспекции по охране памятников архитектуры Московской области, в ведении которой существовал охраняемый храм Николая Чудотворца, — все это тормозило и, даже, парализовало.
Но ведь надо же что-то делать! Каким-то образом реально спасать созданный человеческими руками храм, молитвенно послуживший вот уже без малого 200 лет.
Паспорт Никольской церкви был сделан по форме старшим архитектором Всесоюзного производственного реставрационного комбината (ВПНРК) А.И. Финогеновым в марте 1977 г. В нем сказано: «Кирпичная Никольская церковь, выстроена в 1811 г. Через шесть лет после постройки церкви прихожане подают прошение об устройстве в трапезной двух приделов. Вероятно, в 1816 г. был сделан один придел, так как в 1840-1844 гг. вновь было ходатайство об устройстве второго придела в трапезной. В 1827 г. вокруг церкви была выстроена кирпичная ограда, впоследствии разобранная. Настенная живопись в церкви относится к 1832 г., в 1883 г. росписи поновлялись. В конце XIX — начале XX вв. фасады здания были покрыты цементной штукатуркой, и, вероятно, в это же время устроен существующий деревянный восьмигранный барабан. Эти переделки во многом изменили архитектурно-художественный облик памятника. .. Четырехъярусный иконостас храма и трехъярусные иконостасы приделов, украшенные резными колонками, накладной резьбой и позолотой, выполнены во второй половине XIX в. в псевдорусском стиле… Утрачены главы храма и колокольни. Реставрационные работы не проводились. Здание используется под склад инвентаря и зернохранилище».
Этот паспорт с вкладышами и приложениями лежал в архиве Московского областного управления культуры. В конце 1970-х гг. храм оказался бесхозным.
В пустом, продуваемом помещении храма Николая Чудотворца в то время падали оставшиеся куски тяблового иконостаса. Мы застали еще три их остатка. Над проходом из ротонды в трапезную сохранялась крупной вязью надпись: «Да любите друг друга». По-видимому, пристенные приделы (1816 и 1840 гг.) не были обильно украшены резьбой, как главный иконостас, но зато сохранились оба белокаменных основания престола, существующие на схеме плана 1906 г. (по паспорту). Квадратные в плане, они не возвышаются над полом с низкой солеёй, но таинственным образом связывают с вековым молитвенным служением святителям Петру и Павлу и Сергию Радонежскому, которым посвящены приделы.
В храме поражало конструктивное состояние сводов и стен храма, красота и добротность кладки нетронутых человеком форм нового стиля «ампир».
Мы с мужем Андреем Владимировичем ходили внутри храма и, не ожидая вопроса: «Кто вы и зачем здесь?», смотрели, смотрели, думали, радуясь и отчаиваясь одновременно. Ажурные кованые решетки всех семнадцати окон подлинные, крепкие, так же как и кованые железные двери трех входов в храм, тоже подлинные и красивые, но по сохранности хуже. Пола нет, чугунные плиты его постепенно исчезали, а сменившая их метлахская плитка кое-где осталась. По диагонали трапезной — разрытая канава. Что-то, может быть, искали. Над канавой, наверху цилиндрического свода, хорошо читается большое, продолговатое пятно живописи, по-видимому тематической.
Пусто, грязно, грустно… Приходит на память стихотворение Елены Чудиновой, посвященное храму в селе Уборы. Оно записано по моей просьбе в марте 1980 г.:
В тоске, в смятении стою, Где снег и доски под ногами… Услышь, о Господи, мою Молитву в разоренном храме За тех, кто странствует в ночи, Чей разум преисполнен болью. Молюсь, где колокол молчит, С высокой сброшен колокольни, Где сокрушен иконостас, Где врата царские разбиты, Где Святая Святых для глаз Стоит, кощунственно открыта, Где свален жалкий, старый хлам, Где мнится: вновь прошли монголы… Где по ободранным стенам — Закатный луч… Где пусто, голо… Стою и сердцем слезы лью, И все твержу с земным поклоном: Услышь, о Господи, мою Молитву в храме разоренном.
Главная работа по изучению и реставрации храма тогда еще не началась. Долгая дорога к узаконенности нашего Озерецкого храма сохранилась в письмах в разные инстанции, в том числе в Васильевский сельсовет, начиная с ноября 1986 г. В 1991 г. после бесплодных звонков в Инспекцию по охране памятников архитектуры Московской области было отправлено письмо — первая письменная просьба передать пустой храм в ведение Патриархии.
Параллельно родилась мысль просить разрешение создания «двадцатки», что практиковалось с недавнего времени. В селе Озерецком были жители, растаскивающие остатки храма, но были и глубоко страдавшие о его участи. Образовалась группа неравнодушных: Лидия Ивановна Кочуева, Наталия Петровна Садкова (молочная ферма), Татьяна Ивановна Горбачева (библиотека и медпункт), Анастасия Павловна Матвеева, Антонина Ивановна Зюзина (бригадир), Анна Прохоровна Поставнева (позже, кажется) и семья Сергея и Веры Колесниковых.
Несколько раз мы с Андреем Владимировичем и Лидией Ивановной Кочуевой ездили к благочинному Сергиево-Посадского района о. Иакову в Ильинскую церковь, где он служил и жил в домике рядом. Ловили благочинного, ждали, просили … И, наконец, о. Иаков объявил, что приедет в Озерецкое по поводу открытия Никольского храма. Велел объявить жителям и написать бумагу на храме. Так и сделали. Написали:
«22 июля 1993 г., в четверг, к 11 часам, из Сергиева Посада приедет благочинный отец Иаков по поводу открытия Никольского храма в селе Озерецком. Просьба собраться всем верующим у храма». Иконостаса в пустом храме еще не было.

Служба в Никольском храме. 1990-е гг.
В этот же радостный день появилось заявление приходского собрания, написанное, по-видимому, под руководством о. Иакова, знавшего нужную форму. В нем содержалась просьба о регистрации гражданского устава церкви Николая Угодника села Озерец — кого. Пришлось писать еще много прошений в разные инстанции, ездить к благочинному о. Иакову, просить дать приходу батюшку. Но все это делалось уже от имени приходского совета.
Обещая своего настоятеля, благочинный прислал к нам как-то о. Николая, который, кажется, соглашался, но передумал и стал настоятелем Никольского храма в Бужанинове. В той церкви он разобрал иконостас и в утешение привез его к нам. Лидия Ивановна Кочуева с сыном разложила его в трапезной на полу, вернее на его свободном месте, потом они закрепили его в восточной части, закрыв этим проход в ротондный храм и оба белокаменных основания престолов приделов. Этот иконостас существует до сих пор вместе большими бумажными иконами, подаренными о. Борисом, настоятелем церкви в Ахтырке. Тогда же о. Борис подарил нам колокол из Ахтырского храма, но он недолго провисел в бревенчатой раме против северного портика.
Наконец, благочинный о. Иаков прислал нам временно о. Сергия Пташинского, который был настоятелем Алексеевской церкви в Хотькове на Горбуновке.
Когда утвердился состав приходского совета с выбранным секретарем А.В. Трубецким, пошли письма в разные инстанции, к разным людям с просьбами о помощи материалами, рабочими, деньгами.
Однажды с Л.И. Кочуевой, старостой Никольского храма, мы втроем поехали за подаянием, мало надеясь на письма. Так мы попали в Хотьковский монастырь. Углядев около монастырской ограды штабели красного кирпича, пошли искать мать-игуменью, мечтая попасть на прием и попросить кирпича.
- Нет ее, она занята.
Зашли в Покровский храм, постояли около раки родителей Сергия Радонежского и стали выходить на двор.
- Вон она идет, — пожалела нас тетушка, у которой мы покупали свечки. Почему-то ждем величественную фигуру в игуменском облачении, а идет невысокая, полная женщина, закутанная в теплый платок.
- Кирпича нет!
Дала на Никольский храм 500 рублей.
Благожелателей помочь нашему храму находили, договаривались, но все упиралось в счета причисленного к нашему храму временно о. Сергия Пташинского. Никольскому храму нужен был свой, правильно оформленный счет.
В первое время служения временного настоятеля он распорядился закрыть все окна хотя бы пленкой. Взялся за работу добрый труженик Борис Крепков, живущий рядом со своими детьми. При мне батюшка договаривался с ним. Борис Крепков взялся закрыть все 17 оконных проемов. Он сделал в каждом окне столярку, то есть брусчатую обвязку и затянул ее пленкой. Сделал очень хорошо, и долго она продержалась. Огромное помещение трапезной не продувалось.

Л.И. Кочуева, А.В. Трубецкой, С.А. Колесников
Трапезная — зимний храм — отапливалась изначально двумя печами. В западной стене сохранились в кирпичной кладке оба дымохода. Пытались прочистить их длинной палкой, но северный оказался забит, а южный удалось освободить от мусора. Позже этот дымоход долго служил во время воскресной литургии, когда достали (или купили) огромную печь, зловещего вида, но жаркую. Топила обычно староста — тетя Лида, как все ее звали.
Литургия в Никольском храме была каждое воскресение, но вечерни никогда не было. Приезжали разные батюшки, назначаемые благочинным о. Иаковым. Любимым стал о. Вячеслав (Бреге- да) — необыкновенный батюшка, покоряющий своим служением высокой духовности. Каждый раз казалось, что мы присутствуем при чуде. Да, так оно и запомнилось.
Милый, улыбчивый о. Вячеслав громко читал чин литургии, стоя на приспособленном амвоне в пустом храме. Холодно. Нас шестеро. Батюшка читает молитву… «На колени!» Встаем на колени, в песок, забывая холод и неустройство… «Не бойся, малое стадо… Отец наш благоволил дать вам царство» (Евангелие от Луки, гл. 12). Удостоились слушать его, и слышали, и молились. О. Вячеслав поистине тихо помогал и вел нас к чуду через многочисленные препоны. Говорил так: «А вы приходите в храм, по два, три человека и читайте Акафист святителю Николаю Чудотворцу». Мы стали так делать. Анна Прохоровна Поставнева читала, Лидия Ивановна Кочуева пела громким голосом «Радуйся Николае, Великий Чудотворче», Наталия Петровна Сладкова и, кто еще пришел, подпевали.
На могиле, около памятника погибшим в войне жителям села, о. Вячеслав говорил длинную проповедь. Приезжали, кажется, из Васильевского сельсовета. Народу было много и все его внимательно слушали.
Мы просили у о. Иакова назначить в храм своего настоятеля. Очень хотели, чтобы это был о. Вячеслав. Но он не мог, потому что был настоятелем Никольского храма в Малинниках.
Однажды, после литургии, о. Вячеслав уговорил нас с Андреем Владимировичем поехать с ним в Малинники. Захотела поехать и Лидия Ивановна. Натеснились в его маленькую машину. Обещал привезти обратно. Помню его просьбу поучаствовать в обмерах и проекте реставрации в Малинниковском храме. Не могла дать ему своего согласия из-за дальности и нехватки времени — кончала тогда такую же работу в Озерецком храме на общественных началах, на правах специалиста-пенсионера.
Поездка в Малинники с о. Вячеславом осталась в памяти навсегда. Храм Святителя Николая, вернее, его остатки, находится в красивейшем месте на берегу большого озера, граничащего с Владимирской областью. Где-то недалеко — Гремячий ключ Сергия Радонежского. Пола нет, сводов нет, но есть дверь и замечательный батюшка. Помолились. Батюшка пригласил нас прогуляться к озеру, рассказывал о храме, об удивительном этом месте, об истории села Стогово. Пока мы гуляли, о. Вячеслав распорядился своим помощникам придумать обед, и мы, накормленные, были доставлены в Озерецкое.
О. Вячеслав написал две замечательные книги и издал их. Эти книги о храме в Малинниках, об истории места, о людях, о батюшках, о вере… Первая — «Восстави храм души своея» (Москва, 2003, «Русский хронограф»). Вторая — «Созижду церковь мою» — об одном из уделов святителя Николая в Подмосковье (Сергиев Посад, 2007). Обе книги о. Вячеслава очень хороши и нужны. Третья книга «Притяжение Святой Земли» — паломнические записки (2011, Сергиев Посад) — стала подарком в день освящения храма.
Хочется все время возвращаться к беседам с автором протоиереем Вячеславом Брегедой, перечитывать многие места, глядя на фотографии.
Нужно было начинать что-то серьезное для храма. Как обычно, в таких случаях следует связываться с Инспекцией по охране памятников архитектуры Московской области, то есть с Комитетом по культуре и туризму Московской области, Инспекция тогда так называлась. Но наши письма об оформлении охранного договора на здание Никольского храма оставались без ответа.
Письма нашего приходского совета с о. Сергием Пташинским во главе направлялись в разные инстанции и содержали просьбу прислать регионального архитектора и открыть собственный счет в банке. Время шло. И то, и другое оказалось неосуществимым по ряду причин.
В какой-то особо безнадежный момент мы решили начать хлопоты с просьбой передать Никольский храм в подворье какого-нибудь монастыря. Для начала поехали с Андреем Владимировичем в подворье Троице-Сергиевской Лавры на Самотечную площадь. Настоятель нас милостиво выслушал, но не вдохновился этой идеей и не дал совета.
Наиболее реальным из переписки оказалось письменное прошение летом 1994 г. в Комитет по культуре и туризму Московской области. Мы просили разрешения ознакомиться со старыми фотографиями завершения храма и его интерьера в архиве Комитета. Заведующий архивом внимательно меня выслушал и достал папку 1970-х гг., огорчив, что папка 1950-х гг. при переездах куда-то запропастилась, «но может быть найдется». Эту более раннюю папку с фотографиями Никольского храма в селе Озерецком видела Елена Николаевна Подъяпольская, когда работала над каталогом памятников архитектуры Московской области в начале 1970-х гг. Заведующий архивом любезно дал возможность переснять отобранные нужные фото.
Известно, что без правильных обмеров здания нельзя делать эскизный проект реставрации, без согласованного эскизного проекта реставрации памятника архитектуры, находящегося на охране государства, нельзя начать реставрацию. И нельзя доверять реставрацию случайным рабочим.
Приходской совет храма не возражал начать самостоятельно изучать удивительный Никольский храм.
К 1980-м гг. цементная штукатурка 1906 г., испортившая фасад храма, начала падать, таща местами за собой кладку стен. Висящие куски цемента надо было сбивать, что ловко делала с помощью палки Лидия Ивановна. Изучая стены с рулеткой, карандашом и планшетом, мы поражались метровой добротностью кладки из большемерного кирпича на известковом растворе и системой кованых связей.
В первой четверти XIX века в Сергиево-Посадском и смежном с ним Дмитровском районе, к которому тогда относился Никольский храм в Озерецком, было построено немало храмов раннего ампира московской школы. Но ни в одном из них нет такого количества белокаменных деталей, опоясывающих на разных уровнях храм с купольной ротондой, алтарную апсиду, северный и южный полуколонные портики тосканского ордера с фронтонами, а также колокольню. При ближайшем рассмотрении поражало творение неизвестного строителя рубежа XVIII-XIX веков, задумавшего с такой щедростью и красотой украсить храм. «Ещё молимся о создателях святого храма сего…» /из литургии/.
Первым помощником в обмерах стал мой муж Андрей Владимирович, который держал рулетку на большие расстояния и длинным шестом (сам длинный) мерил высоту, пока мне надо было заниматься чертежом. Безотказным участником был Сергей Колесников, который взлетал на крышу трапезной, а оттуда — на ротонду. Лесов не было. Сергеем Колесниковым сделаны и временный крест на ротонде и оба, существующие ныне. Третьим помощником в исследовании и обмерах с возможной точностью считаю Бориса Крепкова. По моей просьбе он обмерил профильный белокаменный барабан, завершающий купол ротонды, и нарисовал крок его профилей. Главной целью нашей исследовательской и проектной работы в храме являлось увековечение сохранившихся подлинных форм, чтобы начать после согласования достойную реставрацию.
Когда в нужном и возможно полном объеме чертежи и эскизный проект были завершены, я сложила все в папку и отвезла с письмом в Реставрационный центр Комитета по культуре. Директор Центра А.Г. Кудрявцев принял меня, просмотрел, поблагодарил и велел звонить. Через какое-то время он просил приехать подписать титульный лист и текстовую часть, а еще позже — получить переплетенный экземпляр с согласованием.
В то время это, может быть, еще могло, при желании, помочь хлопотам о храме, который возрождался, но очень медленно и неравномерно. Но не было ни денег, ни достойных рабочих.
Белокаменные ожерелья фасадов на всех уровнях, удивительные своими изящными формами рубежа XVIII-XIX веков, продолжали падать. По элементарным правилам, в первую очередь их старались укрепить и подкрепить, что называлось «консервацией». В Озерецком это делать было некому и, казалось, что незачем.
Завершения храма и колокольни не было.
Я неумолимо стремилась действовать. Но как? Ни рабочих нужных, ни денег, ни реального сочувствия. И вот однажды чудесным образом Господь повел нас к правильному пути. Мы ехали с мужем в Москву. Вез нас на машине сын Владимир. Проезжая Костино, где стоит при дороге церковь, я увидела ее новый куполок, и около него наверху, на помосте, двух ребят. Лесов нет. Прошу сына свернуть к храму, внимательно смотрю вверх на качество работы кровельщиков-верхолазов — здорово! Вижу, что и они сверху поглядывают на приезжих. Ищу прораба и прошу разрешения поговорить с ним. «Слезай давай» — машет прораб наверх. Через мгновение перед нами оказался небольшого роста кровельщик-верхолаз. Смотрит на меня молча. Потом подошел второй, большой, встал рядом. С первых слов мы поняли друг друга и подружились на целых два с лишним трепетных рабочих года по восстановлению завершения Никольского храма. Нам тогда Бог послал этих мастеров высокого класса, честных, добрых, деятельных — Александра и Дмитрия.

Окончание завершения колокольни.
Кровельщики-верхолазы Александр и Дмитрий. 2002 г.
Молчаливый Александр Артемьев — главный — знает Никольский храм в Озерецком, и, когда они закончат в Костине, приедут к нам. Цену своей работы они тоже знают: завершение ротондного храма — 90 тысяч руб. Такой суммы не было ни у нашего нового настоятеля, ни у прихожан. Откладывать невозможно — ребята найдут себе другую работу. Храма без завершения не может быть. Эту сумму записала в графе «Благотворительность» фирма «НЭК» с главой ее Николаем Андреевичем Трубецким, нашим сыном. Эскизный проект согласован. Александр и Дмитрий начали работать, не требуя рабочих чертежей, — им все было понятно. Договорились, что заплатим после окончания работы. Но по частям просили давать и раньше. С самого начала до самого конца оплату их честного, высококачественного труда сын Владимир привозил и отдавал в руки старосте. Лидия Ивановна, записывая на листочке, передавала мастерам требуемую сумму.
 Верхолазы-кровельщики
Верхолазы-кровельщики
Работа по завершению храма, а потом и колокольни за такую же сумму шла зимой и летом беспрерывно. За эти годы прекрасной, творческой работы не случалось ни единого срыва. Мы друг другу доверяли и не мешали. Более того, когда восстанавливали верх колокольни, ребята увеличили высоту перекрытия, то есть стропил, что оказалось очень важно: они видели подлинные сте¬ны верха, а я наверху не была. Уточняли проект обоюдно. Настоящие исследователи! Обещали рекомендовать каменщиков.
Староста Никольского храма Лидия Ивановна по благословению взяла на себя послушание сослужить воскресную литургию у себя дома, когда в лютые морозы в храме слишком холодно. Эти литургии остались в памяти необычайностью, добротой и духов¬ностью. Семисвечник стоял в большой комнате на столе. Рядом лежало Евангелие. Священные дары приносили с собой назначенные батюшки. Кто хотел, после запричастного стиха исповедовались и причащались, а прикладывались к кресту все. Потом Лидия Ивановна всех кормила дымящейся картошкой с огородными за¬готовками и чаем с варением. Нам с Андреем не велела уходить домой — сажала рядом с батюшкой. Часто наша заботливая ста¬роста пекла пироги с капустой, угощала и раздавала. К нам с Андреем, жившим напротив, заходила по пути в магазин — проведать, посоветоваться, угостить чем-нибудь.
В августе 1997 г. мы трое с Лидией Ивановной снова поехали к благочинному о. Иакову. Он научил, как сделать собственную храмовую печать, и нарисовал ее эскиз.
Все чаще жили мы в своей избушке, работая над воспоминаниями, переводами, рисунками, печатанием и т. п. Андрей очень любил Озерецкое. Любил прогулки, отдыхая от работы за столом и в саду. В конце лета — клюква и грибы. Зимой — лыжи, в лес или по насту в поля, или на озеро, в камыши. Любил детей, гостей, му¬зыку. Мы привезли проигрыватель и много пластинок классической музыки. Андрею подарили 32 сонаты Бетховена в исполнении Марии Гринберг. Длинными зимними вечерами мы их слушали. Андрей очень любил эти сонаты. Особенно, помню, седьмую. Двадцать девятая — это иллюстрация в музыке к его книге «Пути неисповедимы».
Как-то раз слушали что-то хорошее, вдруг стук в террасную дверь. Открываем, а там в снегу закутанные ребята поют. Поют так весело! Это же колядки! Сегодня ночь перед Рождеством! Сочельник. Пригласили в избу, они еще поют. Смотрят на елочку наряженную со свечками. Угостили их орехами и печеньем. На свету кое-кого узнали: вот дети Бориса Крепова, вот, кажется, Леночка Колесникова. Некоторые — ряженые. Спрашиваем «Вы пойдете в церковь на праздничную ночную службу?» — «Пойдем». Пришли, купили свечки, постояли.
Праздник!
Радостным событием для жителей Озерецкого стал 2000 год, когда настоятелем Никольского храма был назначен иерей о. Сергий Минченко, только что окончивший Московскую духовную академию. До этого, начиная с 1993 года, когда состоялось малое освящение храма, благочинный о. Иаков назначал разных батюшек, у которых были свои приходы. Постепенно о. Сергий и его матушка Светлана завоевали любовь прихожан и многочисленных гостей.
О. Сергий служит в Никольском храме уже двенадцать лет. Многих крестил, венчал, отпевал… Мы благодарны ему за молитвенное крещение наших родных: внука Александра и его мамы Гульжан. По ее желанию она стала Иоанной. Имя это упоминается в Евангелии от Луки, глава 8 (жены-мироносицы). Сын Николая Трубецкого Даниил и наши младшие внуки Алексей, Никита, Александра крещены здесь с молитвой восприемников. А 21 июля 2002 года, на Казанскую, о. Сергий венчал нашего сына Петра и Екатерину.
Торжественно отмечались в храме главные церковные праздники — Пасха и Рождество Христово. Эти моления в еще неблагоустроенном храме привлекали многих духовностью, добротой, проповедями.
Великое ночное празднество устраивается на Крещение. В морозную ночь на реке Воре, под мостом Дмитров — Хотьково, вырубаются квадры льда для просторной крестообразной проруби. Из ледяных квадров группой энтузиастов во главе с главным скульптором Сергеем Колесниковым создаются скульптурыры выше человеческого роста: арка, крест, ангел, часовня — каждый год разные… Священное действо в Святую ночь благословляет о. Сергий в праздничном облачении. Большой костер, огромная ледяная скульптура, молебен привлекают на эту службу более 200 человек, в том числе издалека.
Молитвенное существование удивительного Храма Николая Чудотворца в селе Озерецком за 200 лет (с вынужденным перерывом) сохранило красоту и стать здания рубежа XVIII-XIX столетия, то есть рубежа позднего классицизма и раннего ампира московской школы. Удивительна не только добротность его первоначальных стен, красота кованых конструкций, обилие резных белокаменных украшений, но и чудесная сохранность его в богоборческие 1930-е годы и в военное время. Кроме того, к храму, высившемуся над озером, ничего не пристроили, ничего не отломали. Пострадал храм в основном от времени и невежества.

 Интерьер храма. 2012 г.
Интерьер храма. 2012 г.
После окончания восстановления завершения в 2002 году ротонды и колокольни многотрудная реставрация Никольского храма продолжалась несколько лет. И вот, несмотря на трудные времена, храм возрождён, благодаря людям, знающим и неравнодушным. Стало возможно думать о его большом освящении. По разным причинам двухсотлетний юбилей, намеченный к престольному празднику — 19 декабря 2011 года, не получился. Торжественный день освящения храма был назначен на 10 января 2012 года. К этому событию готовились всем миром.

Праздничную литургию служил благочинный Сергиево-Посадского района со своим хором. Более двадцати иереев торжественно ему сослужали при многочисленных молящихся — сельчанах и гостях. Исповедовал приехавший к этому празднеству о. Стахий — отец настоятеля о. Сергия. Вдоль северной и южной стен светлой просторной трапезной, под окнами, стояли столы под скатертями с яствами. В их устроении участвовали все сельчане. После литургии, приветствий и поздравлений, перед трапезой, батюшки пропели «Вечную память» тем, кто не дожил до этого светлого дня.
Поздравления, подарки, встречи, колокольный звон…
Праздник!